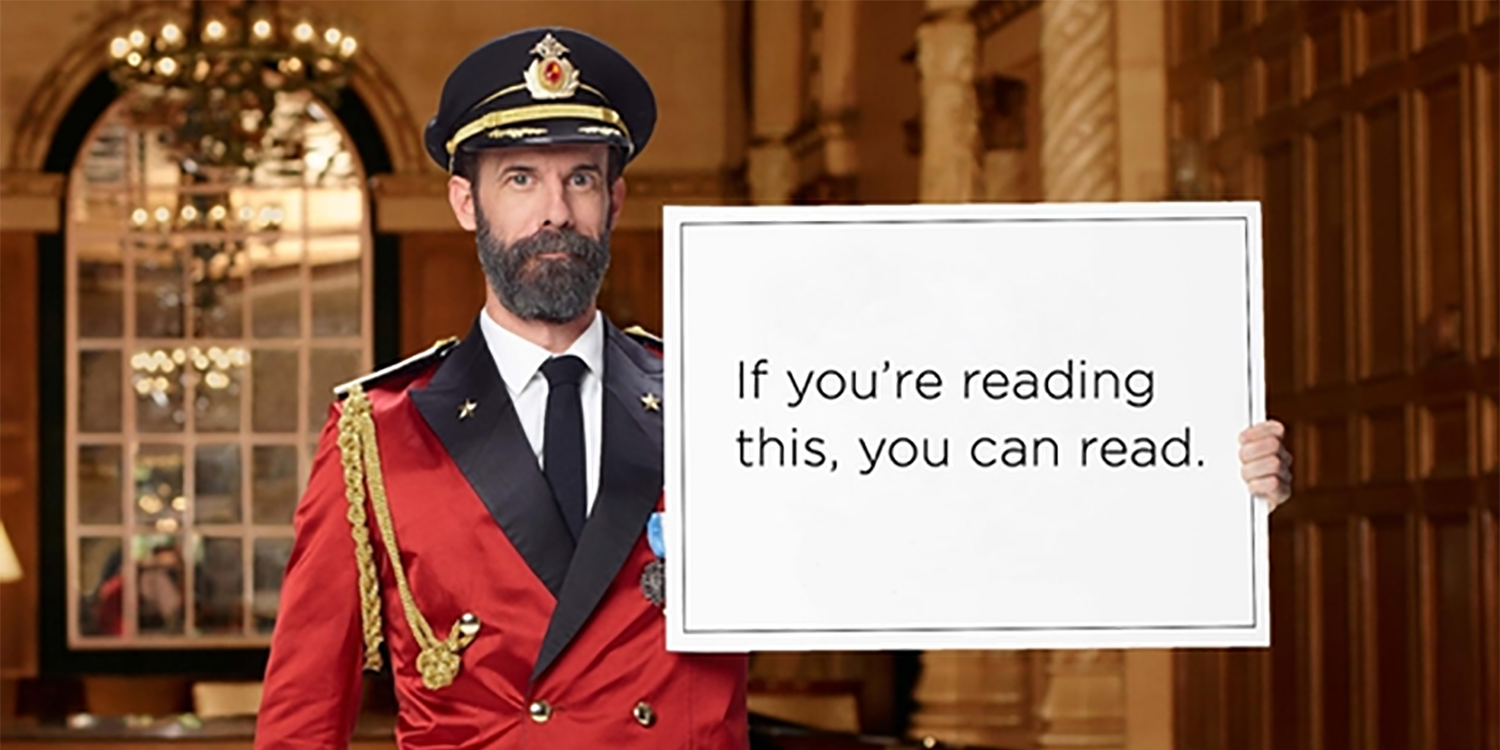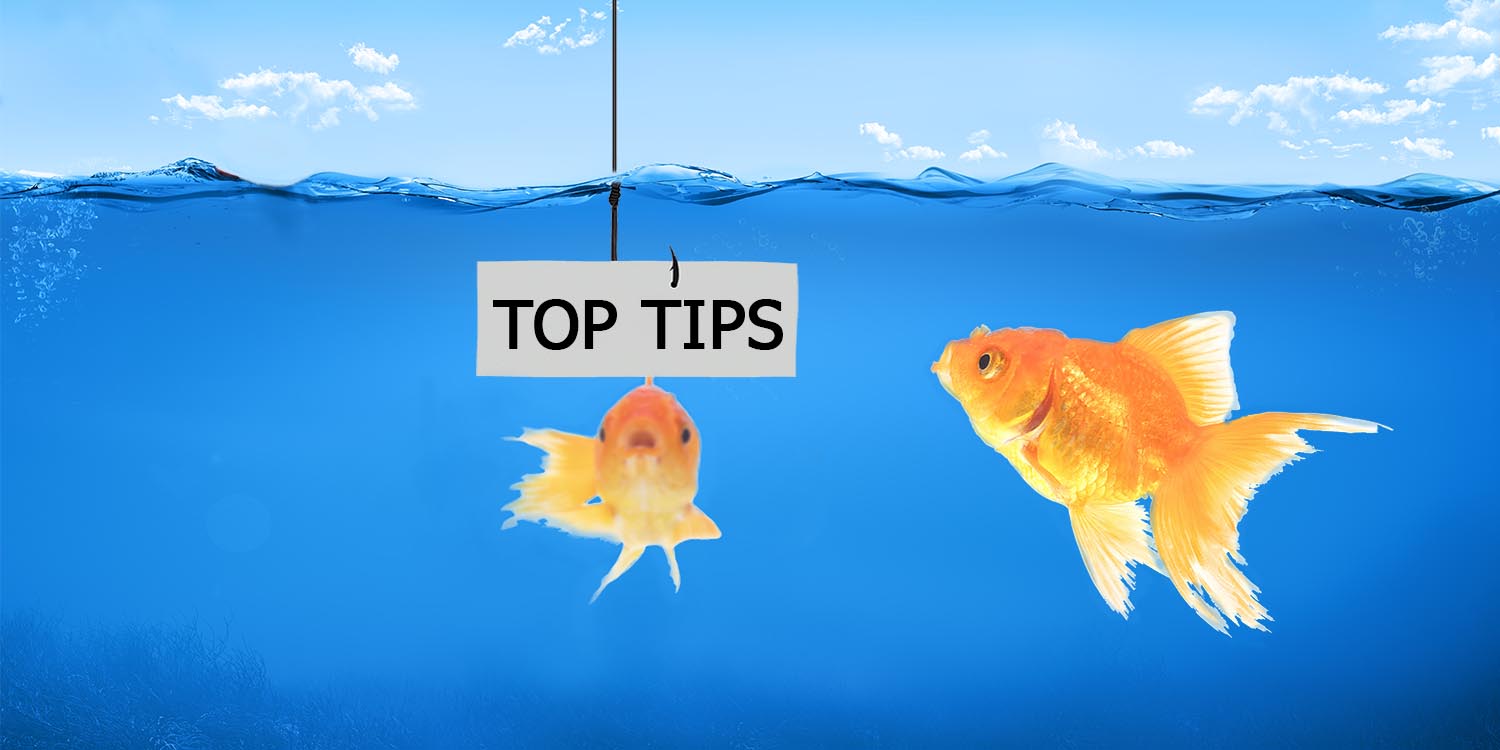История цепочки поставок: Работа эффекта кнута
Мой первый профессиональный опыт в области цепочки поставок произошёл ещё в 2004 году. В то время я учился на факультете информатики в Ecole Normale Supérieure (ENS), университете в Париже. Мои интересы охватывали широкий спектр исключительно теоретических дисциплин, однако идея проверки этих теорий в реальных условиях меня также привлекала. Я думал, что идеальный план заключался бы в том, чтобы получать за это оплату. Но деньги меня особо не интересовали. Студенты ENS уже получали зарплату от государства — это очень по-французски — но мне казалось, что спонсор гарантирует, что я не буду полностью тратить своё время впустую.
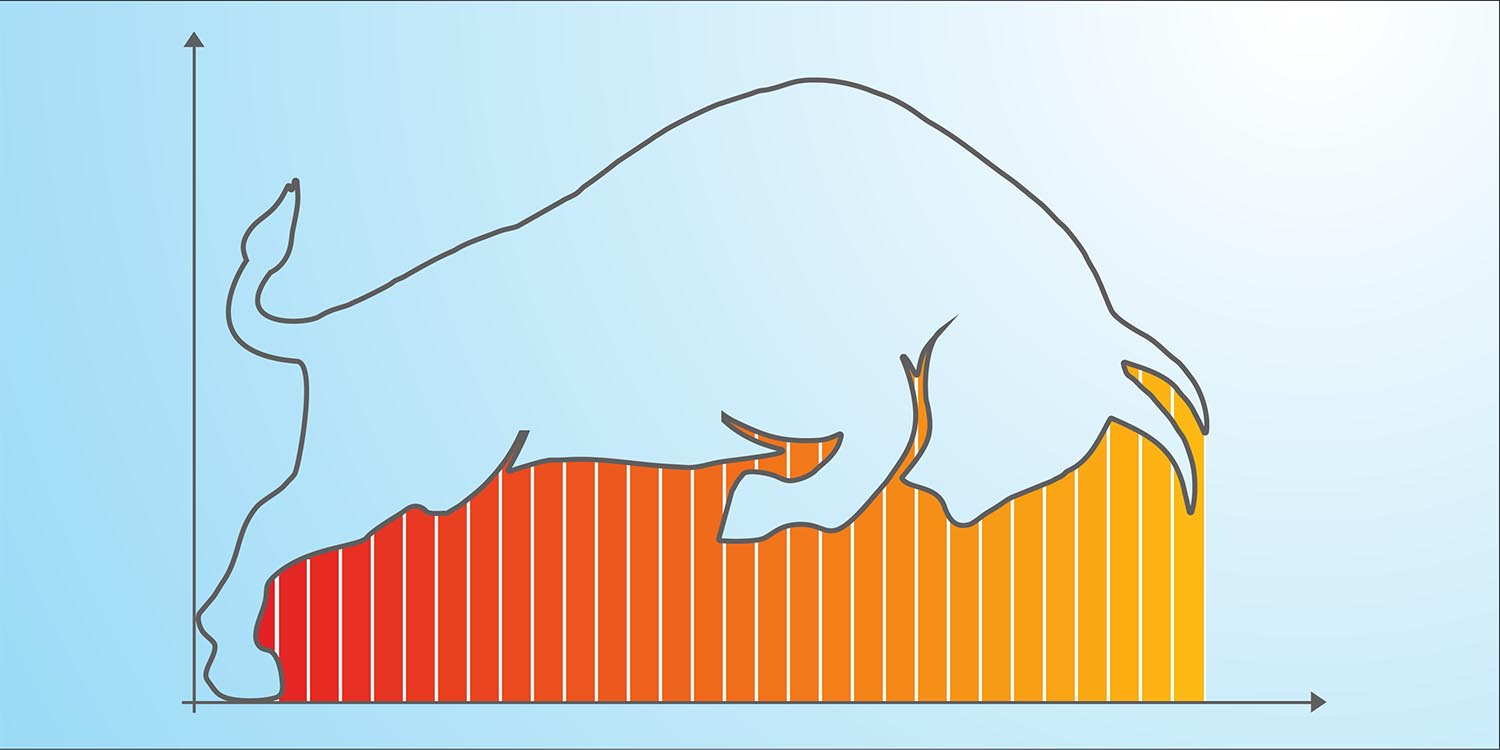
Таким образом, следующим шагом было найти такого спонсора. Я начал расспрашивать людей. Это оказалось своеобразным опытом. Ведь цель ENS — готовить государственных служащих, которые всю жизнь будут служить государству. Моя карьера в этом плане не пошла по плану. Поэтому запросы о контактах с частным сектором встречались с неодобрением (мягко выражаясь). Тем не менее, я в конце концов обнаружил, что в ENS существовало «секретное» младшее предприятие под названием The Institute of the ENS. Название не давало никаких намёков, что, как я полагаю, и было главным замыслом. Младшие предприятия — это некоммерческие организации, предоставляющие студентам временные рабочие места.
Первый секретарь института, приятный мужчина средних лет, принял меня. Институт не находился на пике процветания. «Ты — первый студент, явившийся за месяцы», — сказал он, — и у него не было работы, которую можно было бы мне предложить. Это было разочаровывающе, поэтому я настоял на продолжении. Первый секретарь решил, что по этому деликатному вопросу следует проконсультироваться с почётным президентом института.
Оказалось, что почётным президентом института являлся фактический президент сети продуктовых магазинов с оборотом свыше 10 млрд евро. Несколько дней спустя, после изучения моего случая, он предложил мне работу в его компании в качестве подрядчика. Детали, такие как фактическая природа работы, должны были улаживаться позже другими людьми. Я согласился и сразу попал под опеку его директора по цепочке поставок.
Директор по цепочке поставок был очень занят. В свои шестидесятые он оставался сообразительным и в хорошей форме. В это время реализовывался масштабный проект, инициированный известной консалтинговой фирмой. Кодовое название этого проекта было «Bullwhip», отсылая к, казалось бы, очень влиятельной статье «The Bullwhip Effect», опубликованной несколько лет назад. Французские команды даже летали в США, чтобы пройти специальные тренинги по этому вопросу. Естественно, я ничего не знал об этой статье. Директор в спешке ознакомил меня с основными положениями и показал некоторые данные о потоках в розничной сети.
Хотя я почти ничего не знал о цепочках поставок, оказалось, что меня интересует восприятие человеком случайности. Один из самых загадочных научных выводов в этой области заключается в том, что люди, в среднем, очень плохо распознают «статистический шум». Мы, люди, обладаем огромной склонностью видеть закономерности повсюду.
Таким образом, хотя колебания потоков действительно были весьма значительными, я сразу выразил скептицизм по поводу их первопричин. Я поделился своим скептицизмом с директором. Я сказал, что эти колебания можно объяснить исключительно случайностью спроса. Меня не убеждало, что какой-либо из четырёх факторов, указанных в оригинальной статье по эффекту кнута, имел бы существенное отношение к проблемам, с которыми столкнулась розничная сеть.
Директор не был убеждён, но увидел возможность занять меня, а главное — освободить своё и так напряжённое расписание. Он спросил, умею ли я программировать. Я ответил, что умею. Тогда он начал излагать план для симулятора, который я должен был реализовать для проверки гипотезы случайности. На самом деле требовалось немного данных — около дюжины макропараметров, характеризующих сеть и её ассортимент. Вся встреча продлилась меньше часа, и меня отпустили.
Через несколько недель я реализовал симулятор, и, о чудо, он показал колебания потоков, сопоставимые с наблюдаемыми в реальной жизни. Первопричиной стали банальные дефициты товара на скоро портящихся продуктах. Дефициты товара создавали небольшое, но постоянное давление синхронизации на все потоки — как от поставщиков к складам, так и от складов к магазинам. Отсутствие какого-либо активного компенсирующего давления привело к тому, что из маленьких случайных колебаний возникли большие, но всё ещё случайные волны в потоках. Была организована очередная встреча.
Он внимательно изучил мои результаты. Он задал мне ряд вопросов по деталям реализации. Мои ответы показались ему удовлетворительными. Он поручил мне провести несколько контрэкспериментов с альтернативными предположениями. Через несколько дней я вернулся с дополнительными результатами. Общая картина осталась неизменной. Контрэксперименты соответствовали тому, чего мы оба ожидали. Тогда я ещё не знал, что это была последняя встреча с ним на многие годы.
На следующий день консультанты были уволены, в том числе и я. Новый девиз был: вернуться к основам.
Эта масштабная инициатива была запущена на ныне опровергнутых предпосылках, что, устранив первопричины эффекта кнута, негативные последствия прекратятся или, по крайней мере, будут существенно смягчены. Ожидаемые выгоды просто испарились. Руководство было в ярости. С их точки зрения, их обманули. Чтобы добавить ещё оскорбления, всё, что потребовалось для опровержения всей этой затеи, было случайным вкладом студента. Ответный удар последовал быстро и жестко.
Из этого опыта, моей первой работы, я получил свой первый консультативный чек и убеждение, что принцип Primum non nocere (прежде всего, не навреди) предназначался не только для медицины.